 |
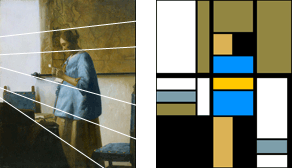
Полотно небольшого размера 46,5 х 39 см., пропорции близки квадрату. Ярко выражены светлые и темные зоны, на их строгом, почти математически продуманном равновесии держится все пространство картины. Светлые зоны определяют и движение нашего взгляда по диагонали, своего рода путь рассмотрения картины: слева-направо как все европейцы, но и немного сверху-вниз – по «движению» светлых зон и, собственно, написанного света, льющегося из предполагаемого окна слева. Интересно, что это движение не бесконечно, спинка стула справа обрамляет светлую зону и ограничивает развитие подобного движения. Темные зоны – стол на переднем плане, накрытый драпировкой и топографическая карта на стене – сообщают противоположную, «предметную» композиционную диагональ. Причем, наибольшую плотность имеют темные зоны нижней части картины, утверждая привычное тяготение к земле в осязательном мире, поскольку и сама картина некая модель этого мира. Большая плотность тона одной области (стол) компенсируется размером покрываемого пространства другой (карта) – при грубом сравнении – качество и количество. Как точно отметил Х.Зедльмайр - «Такое распределение как бы по «весу», с тончайшим ощущением ценности вещей, форм, цветов, размеров, отношений и значений, произведенное согласно трем планам, в соотнесении всех элементов изображения друг с другом – как на весах с тремя чашками, – одно из самых мастерских достижений того чуда, которое совершает картина и которое не способен исчерпать никакой композиционный анализ»
| 
Копия с картины Яна Вермеера (1632-1675)
Девушка в голубом, читающая письмо. 1662/64
Xолст, масло. 46,5 х 39 см.
Амстердам. Рейксмузеум |
|
 |
| |
Женская фигура несет в себе сочетание
светлых и темных зон, являясь, с одной стороны, неким центральным
связующим и организующим звеном, с другой – наиболее объемным, а значит
визуально иллюзорным, наиболее значимым объектом, особенно на фоне локальных
плоскостей окружения: единственный живой актер среди плоских декораций –
сознательные жертвы ради главного. Об умышленном уплощении окружения говорят
хотя бы скрытые возможности таких объемных предметов, как стол или стулья,
подвергающиеся в данном случае еще и сильному сокращению. Вполне понятно,
что в центральной части картины сосредоточены и наибольшие контрасты и наибольшая
замельченность деталей, что особо подчеркивается общим отбором, аскетизмом
изображения. Опуская исследование таких формальных аспектов, как линейный
ритм вертикалей и горизонталей, статику и динамику контуров, акценты и нюансы,
графические и живописные элементы и пр., можно только сказать, что все удивительным
образом сочтено и подобрано. Аналогично достигнуто и равновесие оттенков
теплого и холодного, синего и коричневого. На сочетании этих цветов, противоположных
на цветовом круге, выстроен общий колорит картины. В своем наиболее ярком
и чистом виде эти цвета встречаются ближе к зрительному центру, чуть выше
геометрического центра картины – своего рода максимальный цветовой
контраст. Соединение этих цветов рождает сложные, как принято говорить,
оливковые оттенки зеленого, появляющиеся то тут, то там в картине, неся
особую объединительную функцию. В отличие от классической голландской школы,
Вермеер достигал глубины теней, не прибегая к технологическим эффектам просвечивания
белого грунта и рыжей прописи из под холодного лессировочного слоя; не пользуясь
черным, он смешивал, по-видимому, натуральную умбру и ультрамарин, а грунты
чаще использовал серые. Такие тени за счет выстраиваемых вокруг светлых
зон выглядели очень плотно, а объем достигался с помощью уже рассмотренного
уплощения окружения. Теперь стоит поговорить собственно и о самом «вермеровском
свете», так поражающем зрителей. Уже упомянутые высокие тоновые контрасты
– одно из составляющих этого эффекта. Воздух становится почти осязаем
из-за своей непрозрачности, а иллюзия непрозрачности достигается Вермеером
за счет списывания граней предметов: так в какой-то момент край темной карты
почти сливается с белой стеной. Появляется ощущение сбивки резкости, более
того, светлые зоны как бы наплывают на темные, а не наоборот. На светлых
поверхностях появляются мазки еще более светлого тона – пики фактуры,
максимально отразившие свет в отдельной точке, расплывшейся при смещении
фокуса. Своего рода умышленное преувеличение иллюзии нашего зрения, когда
темный объект на белом фоне выглядит 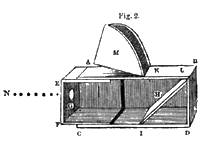 меньше,
чем такой же, но светлый, – на темном. Т меньше,
чем такой же, но светлый, – на темном. Т о
есть на холсте даже не реальность, а то, как эту реальность
воспринимает наш глаз, что проецируется хрусталиком на задней стенке
глазного яблока или то, как наш мозг интерпретирует это отражение. И тут
мы вплотную подошли к тому инструменту, с помощью которого Вермер
создавал свои полотна – камера-обскура – предвестник современного
фотоаппарата. Линза камеры проецирует на матовое стекло круглое или слегка
овальное изображение. Отчасти этим объясняется формат многих картин Вермеера,
близких к квадрату, как и в нашем случае. Размытость изображения –
возможно, намеренное смещение фокуса. Исследователи творчества Вермеера
отмечали резкость ракурсов, увеличение перспективных сокращений, что так
же косвенно подтверждает использование камеры-обскуры. Но сама по себе –
она всего лишь инструмент, который безусловно повлиял на видение Вермеером
световых эффектов, чисто технически помогал в строительстве сцены изображения,
однако без художественной организации, отбора, самой специфической техники
письма картины бы не получилось, как это бывает с множеством современных
фотографий. о
есть на холсте даже не реальность, а то, как эту реальность
воспринимает наш глаз, что проецируется хрусталиком на задней стенке
глазного яблока или то, как наш мозг интерпретирует это отражение. И тут
мы вплотную подошли к тому инструменту, с помощью которого Вермер
создавал свои полотна – камера-обскура – предвестник современного
фотоаппарата. Линза камеры проецирует на матовое стекло круглое или слегка
овальное изображение. Отчасти этим объясняется формат многих картин Вермеера,
близких к квадрату, как и в нашем случае. Размытость изображения –
возможно, намеренное смещение фокуса. Исследователи творчества Вермеера
отмечали резкость ракурсов, увеличение перспективных сокращений, что так
же косвенно подтверждает использование камеры-обскуры. Но сама по себе –
она всего лишь инструмент, который безусловно повлиял на видение Вермеером
световых эффектов, чисто технически помогал в строительстве сцены изображения,
однако без художественной организации, отбора, самой специфической техники
письма картины бы не получилось, как это бывает с множеством современных
фотографий.
| |





